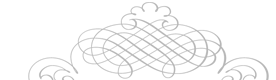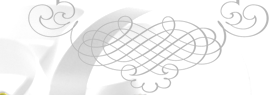Две
родины. Для обеих полезен. У него получается полноценно жить, заниматься
бизнесом, стремиться к успеху в Чите и здесь же развивать и продвигать
узбекскую диаспору не для галочки, а для реальной помощи землякам. В «Подписке о
невыезде» Руслан Содиков.
—
Всё-таки Родина больше — Россия или Киргизия?
—
Сейчас — Россия. Хотя, когда мы только переехали в Читу, я долгое время ощущал
себя здесь как в гостях. Тем более, каждое лето мы ездили, как мне тогда
казалось, домой, в Киргизию. Было такое ощущение, что родина как раз там, а
здесь мы — временно. Хотя большого стресса наш переезд в Читу у меня не вызвал.
Наоборот, мне казалось это увлекательным путешествием. Тогда мне было
семь-восемь лет. В школу я пошёл там, где родился — в Кыргызстане, в Араванском
районе Ошской области. Затем отец, который устроился в Чите, перевёз всю семью
к себе. Первые два года, живя в Чите, мы с братом занимались у репетитора,
чтобы подтянуть язык. Затем учился в частной школе, а с 8-го по 11-й класс — в
лицее при ЗабГГПУ. Также я с детства занимался спортом — карате-до — и ездил в
спортивные лагеря. В спорте достиг высокого уровня — обладатель чёрного пояса и
второго дана по каратэ, призёр всероссийских соревнований. После первой поездки
в лагерь мне уже не хотелось ехать на лето в Киргизию, потому что здесь были
друзья, единомышленники, круг общения, в котором интересно. Так что уже с
подросткового возраста я воспринимаю Читу как свою главную родину.
— А
в Киргизии давно были?
—
Ездил в 2012 году, в отпуск на месяц. Чувствовал себя там туристом. До
прошлогодней поездки в Киргизии не был почти 10 лет. Не все родственники меня
узнали, да и я не всех. Жить бы там уже не смог. Всё по-другому. Другие
традиции, уклад, менталитет. 
— В
университете, обучаясь по специальности международные отношения, кем
планировали работать?
—
Дипломатом. После школы я стоял перед выбором — идти учиться в нархоз на юриста
или в ЗабГУ на международные отношения. Выбрал второе. Планировал стать
дипломатом и работать в посольстве в другой стране. Это были такие планы у
выпускника школы. Затем понял, что эта специальность не очень мне к душе, и
перевёлся на третьем курсе на юридический факультет.
—
Некоторые называют юрфак политена — слабым. Заступитесь?
—
Конечно. Мне сложно сравнивать, потому что я не учился в других вузах, но и
наше образование хорошее. Преподаватели сильные. Многими своими успехами я
обязан именно им. Потому что не только закладывали в нас необходимый багаж
знаний, но и были наставниками — помогали мудрыми советами, подсказывали в
сложных ситуациях. Студенческие годы — лучшее время в моей жизни. Моё
студенчество было наполнено разнообразными поездками. После первого курса я
съездил на международную практику в Германию, а затем в Китай. Мы проходили там
стажировку: учились, жили, бывали на экскурсиях, напитывались культурой другой
страны. На втором курсе ездили в Австрию. По пути заезжали в Польшу,
Белоруссию, Прагу. 
— В
Читу возвращались с досадой, что живёте здесь, а не там, или с другими
эмоциями?
— У
меня было другое. Сравнивая условия жизни для людей — там и здесь, я не
понимал, почему всё так по-разному. Почему у них есть такие крутые социальные
программы, а у нас нет; почему врачи и учителя у них получают зарплату чуть ли
не в десятки раз больше; почему там чистота и порядок на улицах. Было такое
недоумение, ну и желание — не переехать, а делать здесь жизнь лучше. 
—
Работать начали после окончания университета?
— На
пять лет раньше. С первого курса. Тогда была сложная жизненная ситуация у родителей,
и мы с братом должны были сами себя обеспечивать. Учился я на бюджете, но
стипендии, конечно, никуда не хватало. Надо было снимать квартиру, ездить на
учёбу. В то время мой брат подрабатывал в компьютерном клубе, владельцы
которого планировали его продать, и мы, перезаняв деньги, в рассрочку выкупили
этот клуб. Через полгода полностью рассчитались с долгами. Клуб не отличался
уникальностью. Классическое сочетание услуг: компьютер, доступ в интернет, плюс
ксерокопии и ламинирование. Тем не менее, дело пошло, и постепенно у нас
появилось в городе ещё три подобных клуба в разных районах. Учёба бизнесу
никогда не мешала, успевал всё. Сейчас у нас работает один клуб.
—
Ваш бизнес компьютерным клубом не ограничивается?
—
Нет. Два года назад я открыл кафе. Заниматься бизнесом в сфере общественного
питания было для меня новым. На этот шаг я пошёл отчасти для родителей. У них в
своё время был бизнес — кафе, ресторан, но возникли сложности, и они потеряли
своё любимое дело. Мне хотелось, чтобы в нашей семье всё равно было своё кафе.
Тем более опыт родителей всегда помогает в развитии бизнеса. Первоначально я не
очень понимал, что именно хочу открыть — ресторан, кафе или паб. У меня,
конечно, было интуитивное ощущение, чем друг от друга отличаются эти заведения.
В итоге у нас получилось место, где можно быстро перекусить, пообедать. Этот
бизнес требовал больших вложений, но несмотря на затраты, я доволен тем, как
идёт дело.
—
Получается, вы никогда не работали как простые смертные — за зарплату?
—
Нет. Я даже не представляю что это такое — жить от зарплаты до зарплаты. С 18
лет я в бизнесе и по-другому уже не смогу. Я по характеру — лидер,
руководитель, начальник. Мне все друзья так и говорят, что работать в
подчинении у кого-то у меня не получится.
— С
чего началась ваша общественная деятельность?
— В
2010 году в Киргизии начались националистические конфликты, и мне сообщили, что
забайкальские узбеки собираются на площади Революции, чтобы посоветоваться,
каким образом можно включиться в происходящее, помочь потерпевшим. Я подъехал
туда, а люди стоят и не знают, что делать. Кто-то говорит, что давайте
телевидение позовём, давайте письмо напишем властям. Я объяснил, что мы
разрознены, и всё наше собрание напоминает стихийный митинг, который запрещён
по закону. Возникла идея — оформиться как узбекская диаспора. На втором
собрании были выборы председателя диаспоры, и все проголосовали за меня. Я,
конечно, сомневался, советовался с родителями и друзьями. Они меня поддержали.
Мы создали свою диаспору, сняли офис, начали работать. Я входил в общественный
совет при УФСБ, УМВД и миграционной службе.
Наша
главная цель — помогать землякам. Многие приезжают в Россию и не знают, какое
здесь миграционное законодательство. Мы объясняли, готовили удобные памятки. Мы
участвовали в спартакиадах, концертах, одно время выпускали даже газету.
Узбеков в Забайкалье очень много. Причём много тех, у кого родители приехали в
Читу, женились или вышли замуж, здесь и живут. Метисы, но всё равно считающие
себя узбеками. Ещё во времена СССР Читинская область и Хорезмская область
заключили договор, согласно которому из Узбекистана в Читу приезжали люди для
работы на КСК. В 90-е КСК развалился, но многие всё равно остались здесь.
Говорят, что узбекская диаспора одна из самых многочисленных в Забайкалье.
—
Много времени отнимает диаспора? Не мешает общественная работа бизнесу?
— К
сожалению, сейчас работа диаспоры приостановилась. Первоначально был такой
запал у всех, но он перегорел, и мне пришлось из собственного кармана
оплачивать аренду офиса за несколько месяцев, коммунальные услуги, зарплату
работникам. Ну и я другой. У узбеков свой менталитет, даже если человек старше
тебя всего на год, его надо называть старший брат и на вы. Диаспору должен
возглавлять более взрослый человек, но пока такой не находится. Я согласен быть
помощником руководителя, но не более.
Тем
не менее, со времён диаспоры меня все знают и ежедневно мне звонят по 5-6
человек со своими проблемами. По мере сил и возможностей помогаю. Также
остались связи в правоохранительных органах, часто меня просят выступить в
качестве переводчика на судах или следственных мероприятиях. Не отказываю.
—
Сталкивались ли вы с националистическими проявлениями по отношению к себе, живя
в Чите? Как относитесь к подобным конфликтам?
—
Среди моих друзей и знакомых никто даже на бытовом уровне ни разу не проявлял
никакого грубого отношения ко мне с точки зрения национальности. Фактически я
не встречался ни с какими нацистами и националистами. Я не понимаю их идеологию
и то, что они говорят: «Мы — русские». А если разобраться, то у любого русского
в родословной окажутся и евреи, и цыгане. Нет полностью чистого человека по
национальности. Я вот тоже не могу сказать, что я чистокровный узбек. У меня
есть и уйгурские корни. Все нас считают узбеками: мы выросли в узбекском селе.
Там среди моих друзей все были, как я считал, тоже узбеками. А потом я узнал,
что один из них — кореец, второй — татарин, ребята-близнецы — русские. Нигде
нет чистой нации. Смешение кровей происходило всегда. Я считаю, что каждый
человек сам по себе — многонационален. Делить по нациям — это неправильно.
—
Было желание уехать из Читы?
—
Нет. Никогда. При этом я очень хорошо понимаю тех, кто уезжает. У меня
большинство одногруппников с факультета международных отношений уехали в Китай.
Многие преподаватели тоже переехали. У меня другая ситуация. Здесь бизнес.
Очень сложно начинать своё дело на чужой территории, где ты никого не знаешь и
тебя, соответственно, тоже. В Чите есть люди, которые в нужный момент подставят
плечо, поддержат, посоветуют. Это ценно. К тому же я не считаю, что в нашем
городе нельзя развиваться, успешно работать. Всё под силу. Главное — желание. У
каждого свой путь, его надо найти и идти, не стоять на месте.
—
Когда выходные или отпуск — летите за границу?
— На
выходных выбираюсь на Молоковку или на Арахлей, люблю Никишиху. В летние вечера
выезжаем с друзьями на котлованы в Засопке. Отпуск, да, стараюсь путешествовать
по миру. Знаю, что в Забайкалье столько прекрасных мест, что все ещё интересные
поездки впереди.
—
Пожелайте что-нибудь молодым забайкальцам
—
Хочется посоветовать помнить свои родные места и ценить то, что имеете, а ещё
стараться приумножить это. У каждого есть возможность внести свой вклад.
Начинать можно с малого — не бросать мусор на улицах, быть добрее и терпимее к
окружающим. Есть три главных пункта в жизни мужчины: посадить дерево, построить
дом, вырастить сына. Для
меня всё это — здесь, в Забайкалье.
Татьяна Пояркина
13 ноября 2013 http://articles.chita.ru/55694/
|